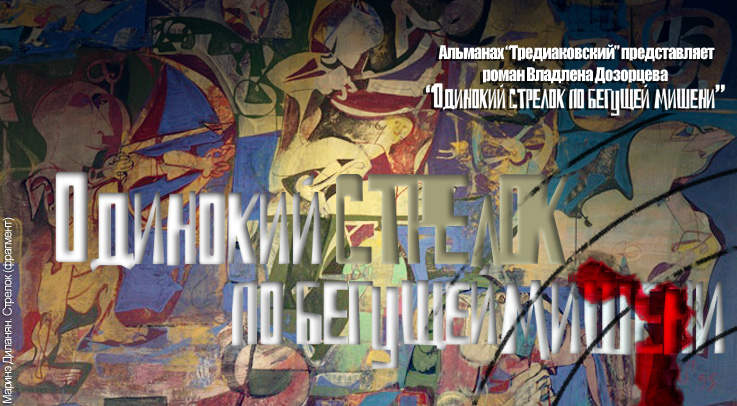Разделы и рубрики
Цикл публикаций
Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава XII
Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава XI
Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава X
Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава IX
Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава VIII
Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава VII
Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава VI
Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава V
Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава IV
Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава III
Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава II
Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава I
Публикации автора
Завтрак с неизвестными. Акт второй
Завтрак с неизвестными. Акт первый
Завтрак у Товстоногова
Последний посетитель. Действие второе
Последний посетитель. Действие первое
Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава I
- Автор: Дозорцев Владлен Леонидович
- Дата публикации: 05.02.2012
- Сертификат о публикации № Т-6356
- Рубрика: Лирический герой
- Цикл публикаций: Одинокий стрелок по бегущей мишени
Роман Владлена Дозорцева «Одинокий стрелок по бегущей мишени» был впервые опубликован в 1982 г. в журнале «Даугава». Отдельным изданием роман выходил в 1986 и 1990 годах. Роман во многом автобиографический. Его автор высказал сомнение по поводу актуальности романа для современного читателя. Однако, по мнению редакции, тема, раскрытая в романе, не утратила остроты звучания по сей день: тема совести, морали, нравственности, долга, честности и чести. В одном из эпизодов романа его главный герой, Клиншов, задаётся вопросами: «<…> отчего безнравственная природа полна доверия и величия, когда творит добро и зло? И отчего тогда последняя часть её – человек, занятый тем же, подозрительно мелок? И вообще, нравственность – это осознанный поступок? Но нет ли в нём тогда привкуса личной выгоды, ежели он осознанно предпринят? А если есть, то что это за нравственность?.. Запишем, запишем: «Сознательный поступок имеет под собой корыстный мотив». Ещё лучше: запишем с вопросом. Завтра наткнёмся на эту мысль и сотрём её, удивившись пустоте или продвинем её на шаг. Но это завтра, а сегодня в монтажной было недоговорено главное. Запишем: «На то и искушает жизнь, чтобы человек устоял». Конфликт человека и его внутреннего «я» становится стержнем предлагаемого читателю романа. Конфликт не ослабевающий и не устаревающий со временем.
Текст публикуется по: Владлен Дозорцев. Четыре происшествия. – Рига: «Лиесма», 1990. – 429 с., с авторскими правками.
Глава I
По утрам стало холодать, и слава богу. Август уступал сентябрю, и прекрасно. На пляже – никого. И не нужно.
Море лениво шлепало ещё мягкими губами – играло своей травой: то хватало её с песка, то выбрасывало снова.
Человек стоял спиной к лёгкому ветру и выжимал несуществующий потолок, чтобы согнать лень и сон тела, а точнее, избавиться от дурнотного состояния неразберихи последних дней, когда ему казалось, что в черепной коробке – не мозг с его извилинами, а спутанные мотки киноплёнки с толкотней чужих лиц и слов, как это бывало всегда при первых просмотрах снятого материала и первых попытках смонтировать фильм.
Между тем ступни медленно погружались в мокрый песок. Как бы под тяжестью выжимаемого потолка. Это развеселило человека, он подтянулся на воображаемых кольцах, однако ноги не вышли из жёлтой трясины, а погрузились ещё: насыщенный водой и расшатанный ступнями песок не понимал человека.
Тогда он махнул рукой, выбрался из засоса и пошёл на свой чердак, который снимал третье лето в рыбачьем посёлке с трёхударным названием Клапкалнциемс, а короче просто Клап.
До него на чердаке в летние месяцы спал хозяйский сын перед армией, как видно, весьма интересовавшийся жизнью, о чём говорили сочные журнальные вырезки, которыми он оклеил мансарду от пола до потолка и сам потолок. Сюжет был, естественно, один – в духе позднего пубертанса, откровенно мешавший работать за столом и даже вполне возможно способствовавший возникновению в голове чепухи, вроде желания, например, сбить с толку незнакомую девушку, идущую мимо за молоком.
С точки зрения хозяйки и соседей Клиншов был прекрасным дачником, поскольку тут, в Клапе, почти не бывал. А если и заявлялся, то через час-два начинал тяготиться дачной жизнью. Поваляв в песке своё тело и макнув его в холодные воды залива, он уже раздражался невозможностью внутреннего расхода и утратой прямой цели своего присутствия в жизни. В самом деле, будто кто-то диктовал условия: не понимать, что уходит время, не вспоминать об этом, настойчиво ничего не делать и ни о чём не думать, упорно отвлекаясь безделицей дачного разговора. Тогда его непоправимо тянуло в город, к телефонам и нескольким лобастым именам из своего круга, к тем, с которыми каждое слово есть дело.
На чердаке Клиншов решительно влез в рубашку и джинсы, совершенно доверяя своему телу, а потому не слишком упаковывая его. Вообще было такое впечатление, что он вполне доволен собой, несмотря на то, что находился в третьем порядке возрастных ощущений, первый из которых называл приступом любопытства, а второй приступом иронии. И не было для него вопроса, как именовать следующий – он хорошо знал, что это приступ воспоминаний о первых двух. И если бы его спросили: а четвёртый? Он бы ответил, что четвёртый – это уже не приступ, а хроническое состояние. Но его никто не спрашивал об этом, кроме старого ярославского зеркала в стакане лифта, в котором он ввинчивался ежедневно в свою городскую квартиру, почти касаясь виском кем-то выцарапанной фразы: «Если даже вы поднимаетесь, вы всё равно опускаетесь».
Лифт был странный. Каждый раз, когда он проходил пол-потолок очередного этажа, свет исчезал в нём на секунду и загорался снова. И человек, всматривающийся в зеркало, не узнавал себя, как бы становясь на этап старше с каждым этажом. И поэтому вовсе не удивительно, что в отдельные дни после работы Клиншов прибывал на свой седьмой этаж совершенным стариком. И тогда он выцарапал на стене лифта ещё одну фразу: «Если разбить зеркало, можно хорошо сохраниться».
Эта мысль кому-то понравилась, и ярославское зеркало разбили. А когда вставили новое, никакие мысли о времени уже не лезли в голову, потому что зеркало сильно искажало.
Похрустев яблоком, Клиншов собрал на чердаке свои вещи и отнёс в машину, поскольку не знал, когда вернётся сюда и вернётся ли вообще. И пока прогревал мотор, всё время морщил лоб и напрягал зрение, будто стремился разглядеть что-то посреди утреннего дачного двора, хотя не видел ничего и был уже давно не здесь, а в пятидесяти километрах отсюда, в чреве бокса для скрытой камеры, специально обустроенного, чтобы фиксировать на киноплёнку действительную и непоправимую жизнь взамен старого документального телекино.
Бокс – дорожно-ремонтный вагончик на резиновом ходу – был как бы резервуаром, наполненным темнотой и табачным дымом, но люди в нём всё-таки приспособились и даже видели друг друга. Единственным окном на волю была узкая щель полуметровой длины – оттуда шёл воздух и вся информация о том, что происходило на полупустой улочке Старой Риги, на которой дремало несколько легковых автомашин. Правда, было ещё одно отверстие в город – круглое, размером с бутылочное дно. Но чтобы видеть сквозь него, надо было прижать глаз к визиру киносъёмочного аппарата «Конвас», отчего сильно уставала спина и затекал затылок.
Иногда в темноте начинала трещать рация, и придавленный техникой голос спрашивал что-нибудь дежурное. Ну, например: «Ещё живы?» Или: «Сидите?»
Сидели уже часов пять. Звуковик откровенно спал, попирая лбом репортофон и раздражаясь каждым шорохом, будившим его. Режиссёр Порк, человек старый и болтливый, накачивал Клиншова бесконечной историей из своей прошлой цирковой и театральной жизни, временами забываясь и нарушая уговор не повышать голос, и тогда оператор Вележ, отрываясь от «Конваса», безнадёжно умолял:
– Ну тише!
Терпение всех было на исходе. Но Клиншов бесконечно верил начальнику уголовного розыска города, который сказал:
– Да я вам так поставлю машину, что любой дурак в неё залезет и даже угонит. Гарантирую пять дублей в сутки!
Как выяснилось, начальник угро знал свою клиентуру – послышалось зловещее шипение Вележа:
– Кажется, есть!
Клиншов и сам увидел в щель, что началось.
Там, за стенкой вагончика ещё ничего не происходило, но уже чувствовалось, что человек, стоявший перед витриной магазина грампластинок, что-то уж слишком пристрастно путешествует по ней глазами, временами оборачиваясь и похватывая взглядом уличные шумы.
– Я скажу, когда, – предупредил Клиншов, забирая в свои руки всю власть, на которую Порк давно не претендовал. – Я знаю, как будет, – и он прилип к щели.
Представьте себе молодого человека, который праздно гуляет по улицам и площадям древнего города. На одной из мостовых он вдруг случайно натыкается на вполне приличную машину, хозяин которой, как видно, выжил из ума. Ну кто оставляет машину в глухом уголке города с полуоткрытым угольничком и разными интересными вещами на сиденьях! Одни фирменные подголовнички чего стоят. И кассетничек неизвестного производства. И, кажется, не пустой атташе-кейс.
И тогда человек начинает так это незаметно поглядывать по сторонам, предполагая, куда это хозяин мог деться, и видит впереди кинотеатр. И ему становится ясно: хозяин смотрит кино.
И он сразу же идёт к афише и определяет, что до конца сеанса ещё есть время. И возвращается, близко, почти впритирочку, проходя мимо угольника, и тут уже совсем бледнеет оттого, что в поле его зрения попадают ключи с брелоком необыкновенной работы. Чуть левее руля.
Тут человек становится большим любителем грамзаписей, и, подойдя к витрине закрытого магазина, немного нервно начинает рассматривать всё, что отражается в чистом стекле – красный жигулёнок, например, другие машины или, скажем, окна противоположного дома, или ещё выходы из дворов, одновременно подумывая: не лучше ли отогнать машину подальше отсюда и уже там извлечь из неё выгоду. И решает: лучше.
И, решив так, он небрежно шагает к дверце, дёргает её на себя и запускает мотор. И машина, слушаясь педали, легко подаётся вперёд.
И в это время метрах в шестидесяти из двора выезжает бортовой грузовик и блокирует улицу, пытаясь как бы вывернуть на узкую мостовую. Вот кретин! – говорит человек в его адрес и нервно подгазовывает, не решаясь дать сигнал. И понимая, что грузовик вывернет, может быть, только с пятой попытки, он решает не связываться, а лучше дать задний ход. И оборачивается, чтобы знать, куда рулить, но видит ещё одного кретина, который ползёт на него на «Камазе», запирая собой улочку наглухо.
Тут у человека впервые сдают нервы от нехорошего предчувствия, а может, он догадывается, что всё это неспроста. И он, не мешкая, выходит из жигулёнка, чтобы проделать путь в несколько шагов до ближайшего подъезда, но его уже берут. И тогда открывается тот самый дорожно-ремонтный вагончик без окон, который человек не взял в расчёт, и оттуда бегут какие-то неприятные люди с чем-то поблескивающим в руках и оказывающимся кинокамерой. И кинокамера эта лезет под самый нос, издавая лёгкий стрёкот, от которого человек закрывается руками. Но неприятные люди уже кричат:
– О’кей! Снято!
– Завтра с утра займёмся этим юношей. Теперь – на старое шоссе.
Низкая точка съёмки как бы приподняла чёрный горбыль зернистого шоссе над землёй – оно чётко печаталось на светлом горизонте. Портфель одиноко лежал на самой середине дороги – как раз против зарослей полыни, в которых Клиншов и Вележ задыхались от едкого запаха. Тут дело могло кончиться в любую минуту с первой же машиной, и потому Вележ держал в поле зрения всю линию горизонта, готовый нажать спуск кинокамеры, как только возникнет движение.
Движение возникло, обтюратор начал печатать на плёнку серебристую «шестёрку», летящую к Риге.
Водитель заметил портфель издалека. Он стал сдерживать машину, усмирил её, вышел, посмотрел по сторонам. Никого. Странно, но никого. Тогда он подошёл к портфелю и наклонился, недоверчиво разглядывая его. Вдруг выпрямился, снова пробежал глазами кюветы и за ними поля, как бы ожидая помощи. Слегка пнул портфель ногой. Осторожно поднял за ручку, медленно и опасливо открыл, тут же захлопнул, кинул в машину и укатил, оставив на шоссе синеватое облачко выхлопа.
Камера в зарослях полыни перестала трещать. Клиншов дотянулся подбородком до коробочки рации и сказал:
– Серая «шестёрка» пошла с портфелем.
И машина ГАИ, стоящая двумя километрами дальше, выдвинулась на шоссе.
– Ну что, положим следующий? – обернулся Клиншов к Порку, но сразу понял, что ответа не дождётся: режиссёр тихо спал за кустами в ямочке. Клиншов махнул рукой и понёс на шоссе ещё один портфель.
– Значит, если в машине один человек, я не снимаю, – крикнул Вележ, как бы спрашивая или предупреждая.
– Да, нам нужна теперь коллективная честность. Индивидуальную мы теперь уже имеем, – засмеялся Клиншов и сел на портфель у самой обочины. Так он сидел некоторое время, равнодушно пропуская несущиеся автомобили, ударявшие его волной горячего воздуха. Потом крикнул: – Причём снимешь два варианта: один, когда люди в машине знают друг друга, а второй, когда незнакомы. Например, таксист с пассажиром.
Он оставил портфель на шоссе и вернулся в полынь.
– Порк! Порк! Как слышите меня? – наклонился он над режиссёром.
Порк проснулся, завертел головой.
– Минут через пять можно начинать. Я поехал потрошить «шестёрку». Как поняли?
Порк оживлённо закивал, хотя ещё не связал ничего.
– Смотри, не забудь, – сказал Клиншов Вележу, – если остановится одиночка…
– … я встаю и кричу: положь пóртфель! – закончил Вележ.
– Вот именно. Там всё-таки книжка на предъявителя. Моих двести рэ! – вдруг воскликнул Порк, вставая.
Проснулся, орёл…
Клиншов пробежал двести метров, скатился под мост, выгнал из-под него свой ВАЗ и понёсся туда, где жёлтая с синим машина ГАИ уже должна была остановить серебристую «шестёрку».
Весь вечер и утро следующего дня следовало бы выпустить из клиншовской собственной жизни, поскольку в ней ничего непредвиденного не произошло: всё было снято, всё было отправлено в лабораторию, всё было проявлено и напечатано. Стараясь не думать о том, что возникнет или рухнет завтра на монтажном столе, Клиншов напал с отвёртками и гаечными ключами на свою машину, перебрал тормоза и поменял крестовину кардана, отмывшись от масла и копоти лишь к ночи. А утром ещё из постели набрал номер Вележа и крикнул: ну что? И когда Вележ сказал, что плёночного брака нет, Клиншов бросил трубку и с удовольствием почистил зубы.
В подвал монтажной комнаты спустился Порк. Весь деловой и решительный.
– Начнём строить! – сказал он и шумно сел, делая вид, что хочет работать. Он уже давно делал вид. Что интересуется спортом, что переживает за коллег. Что восхищается чашкой кофе. Что вообще работает. Единственное, что, может быть, по-настоящему занимало его ещё, так это золотистые колени загорелой монтажницы Моники, на которые он смотрел и теперь, по поводу чего Клиншов не удержался:
– Послушайте, Геннадий Михалыч! – возмутился он. – Где у нас экран?
– Как вам не стыдно? – воскликнул Порк.
– Что за претензии! – ещё раз возмутился Клиншов. – Это не ваше. Это общее, – и он положил ладонь на Моникино колено.
И Порк, чтобы не видеть этого хулиганства, упёрся глазом в светящийся прямоугольник экрана.
Там, на экране, притормаживала «шестёрка», остановленная вчера жезлом регулировщика. Потом возник смущённый человек. Левый угол кадра занимал обросший затылок, который Клиншов узнал бы всегда – свой затылок.
Текст был такой:
Клиншов: – На отдельных участках вы шли свыше ста. Машина, конечно, у вас что надо.
Человек: – Мне казалось, я, вроде бы, и не спешил…
Клиншов: – На первый раз ограничимся устным. Да? Только не гоняйте.
Человек: – Никогда. Спасибо. Честное слово – никогда. Благодарю вас.
Человек получил свои права, пошёл к машине.
Клиншов: – Да, простите, вы ничего не находили там, на шоссе?
Человек: – Ах, да. Находил. Я подобрал портфель. Лежит портфель на дороге. Я думаю: что за дела! Надо отвезти в город. И взял. Сейчас я принесу.
Клиншов: – И что вы намеревались с ним делать?
Человек: – Ну отвезти в стол находок, конечно. Теперь, я понимаю, его уже ищут?
Клиншов: – А что там, в портфеле?
Человек несёт портфель:
– Не знаю. Я не открывал.
Клиншов: – Ну да! Невероятно. Вы подбираете портфель и кладете в машину. А вдруг там дохлая кошка!
Человек смеётся, жмёт плечами:
– Не пахло.
Клиншов: – Не было бы ничего предосудительного в том, что вы открыли бы. Может быть, там есть документы, и не нужно обременять стол находок.
Человек: – Вы считаете, надо было открыть?
Клиншов: – Может быть, хозяин уже мечется в поисках пропажи, а там есть телефон.
Человек: – Может быть.
Клиншов: – Послушайте, а почему вы сразу не начали с портфеля? Вы же видите – тут люди в погонах.
Человек: – Ну, это естественно. Когда останавливает ГАИ, первым делом думаешь, что ты натворил. Может, знака не заметил. Я растерялся и забыл. С вами не бывает? – человек начал выходить из себя.
Клиншов: – Бывает. Я вот чуть не забыл спросить про портфель.
Человек: – Ну вот видите.
Клиншов: – А если бы я не спросил? Вы бы действительно понесли в стол находок?
Человек: – Можете не сомневаться, – он обиделся.
Клиншов: – Неоткрытый? Неизвестно с чем? Может, с кирпичом?
Человек: – Ну дома я бы открыл, посмотрел бы. И если бы нашёл телефон или адрес…
Клиншов: – А если бы там были деньги? Извините моё любопытство. Вы интересный человек. С вами приятно говорить.
Человек: – Я бы позвонил хозяину.
Клиншов: – А, допустим, никаких указаний на принадлежность?
Человек: – Тогда в стол находок. Если большие деньги, это знаете ли…
Клиншов: – А если бы небольшие? Рублей так пять?
Человек: – Ну пять рублей – что за беда! Кто из-за них поедет?
Клиншов: – То есть вы бы оставили их себе? Вот тут проблема.
Человек: – Ну что за проблема, в самом деле.
Клиншов: – Значит, дело в количестве, а не в принципе?
Человек: – Ну между нами – да.
Клиншов: – А не между нами? Допустим, сказали бы вы это со сцены в зал? Или с экрана для телезрителей?
Человек недоверчиво начинает осматриваться вокруг. Не видит ничего подозрительного. Говорит:
– А что. Подумаешь!
Клиншов: – Ну скажите. Вот микрофон, – он вынимает из-за пазухи микрофон с полуметром пружинного провода.
Человек смеётся:
– Он же оторван.
– Стой! – сказал Вележ, и Моника остановила плёнку. – Ты так говорил с ним, как будто точно знал, что он ответит и чем закончится разговор.
– Я действительно знал, – отозвался Клиншов. – Подумал за него да и всё. – Он всмотрелся в растерянное лицо человека на плёнке. – Поехали!
– Подожди, – крикнул Порк. – Стой!
Моника снова остановила ленту.
– Знаешь что, – сказал Порк, – пока было с угоном, я ещё как-то понимал. А тут вполне приличный человек. Такой, как все.
– А почему мы должны заниматься только патологией? Мы же делаем кино для нормальных людей. Таких, как все. И о таких, как все. Он, действительно, обычен.
– Нам потом скажут: вы что, хотите доказать, что у нас все жулики? – вскочил Порк.
Клиншов начал злиться.
– У меня была простая мысль: в каждом человеке есть этические тормоза. У одних сильнее, у других слабее. Это орган такой. Его можно воспитывать. Он может ослабевать или укрепляться. Если он слаб, человек способен на преступление. Если силён, человек не возьмёт чужой корки. Разве плохая у нас мысль?
– Мысль-то неплохая. Но мы как бы искушаем. Подкладываем кусок и ловим. Мы провоцируем низменное. Вот он и не устоял, – Порк развёл руками, как бы сочувствуя водителю «шестёрки».
– А разве жизнь искушает высоким? Где это вы видели?
– Ну да, но ты его совсем лишаешь опоры. Так можно заставить ежа раздеться. А тут ещё последует целый коллектив, – Моника показала на плёнку.
Клиншов сделал полный оборот на своём стуле:
– Ставится жизненный опыт. Социальная и нравственная наука, наука вообще не должна бояться никаких выводов. Даже крайних.
– Мы же не в колбе живём, – заходил по подвалу Порк.
Но тут в дверях показалась Машенька, секретарь шефа.
– Что? – спросил Порк нетерпеливо, боясь, что забудет собственную мысль.
– Она ко мне, – заявил Клиншов, больше не желая ввязываться в разговор, в котором ему было всё ясно. – Ты ко мне, моя радость?
– Тебе звонили, – сказала Машенька, сев на край стола. – Какой-то Миша Бигуди.
Клиншов выпрямился.
– Он просил передать дословно: «Бронирован номер в гостинице “Тула”». Что с тобой? Это серьёзно? Может, я что-то перепутала?
– Это пароль, – бросил Клиншов, думая уже о своём.
Через несколько минут он оформил семь своих законных отгулов и понёсся по студии.
Вележа он нашёл в кафе. Сказал ему:
– Помнишь, как ты прыгал, когда я объяснил тебе идею?
– Ты применяешь к людям средство, которое не испытал на себе, – выдавил, наконец, Вележ.
– Сташек, может, мне повторить всё сначала?
– Там действительно есть что-то неприятное. Получается, что авторы как бы априори абсолютно честны. То есть будто мы выше всех, с кем говорим. И без того это – общая беда телевидения.
Клиншов понял мысль. Обрадовался. Он любил Вележа за то, что тот работал и думал медленно, но всегда точно. И он сказал:
– Вот это существенно. Я буду думать. Звуковик откопировал мне все фонограммы, и я беру их с собой. Я обещаю честно думать над тем, что ты сейчас здесь сказал.
– Куда ты? – спросил Вележ. – Зачем тебе Тула?
Но Клиншов уже уходил. Только руками развёл, придерживая на боку узкоплёночный «Роллифлекс», что очень удивило Вележа.
Дома, цепко перебирая и упаковывая аппаратуру, Клиншов вспомнил главное и набрал номер юридической консультации. Сергей Натансон был на месте.
– Всё готово, жду, – ответил он.
Увидев Клиншова, Натансон повернулся всем животом к столу, извлёк оттуда белую папку, бросил её на стол и, сделав знак сидящей напротив упитанной клиентке помолчать, замолотил с телетайпной скоростью:
– Значит, быстренько разыгрываем. Двадцать лет назад трое друзей посадили четвёртого – твоего папашу.
– Я не люблю это слово.
– Пардон. Тут являешься ты в бороде и при усах и говоришь: требую пересмотреть дело, – он дробно захохотал. – Ты слыхал что-нибудь о таком понятии, как срок давности? Если я что-нибудь понимаю, речь может пойти о ложных показаниях этой троицы. Так вот, их нельзя было взять за хлястик уже пятнадцать лет назад! Свободен! – он выхватил из-под локтя залистанный томик уголовного кодекса.
– Не надо, – остановил Клиншов. – Я смотрел.
– Понял, – кивнул Натансон. – Значит, лжесвидетелей не сажаем, а только реабилитируем папашу. Поехали. Куда мы обращаемся? К прокурору области. Ай-яй-яй, говорит прокурор области, – в порядке надзора поднимем навозец. Ну-ка. Что там? Ай-яй-яй! Но вы знаете, процессуально зацепиться не за что. Суд как суд. Ну с провинциальными издержками. Но всё доказано. Свободен.
Тут ты говоришь: а вот один из троицы мне сказал… Ну смех!
Тут ты опять говоришь: вот его новые показания. Он кается.
Ну так остальные двое, как я понимаю, каяться не захотят! Они же будут защищаться! Их же двое! Гуляй!
– Ладно, – оборвал Клиншов, чувствуя невозможность объясниться полностью в перестрелке пишущих машинок и разнобое голосов. – Я позвоню оттуда. Как получится. – Он взял папку и вышел.
Он уже сидел за рулём, когда из конторы выкатился «беременный» Натансон.
– Ты что, действительно едешь? – спросил он с одышкой.
Клиншов улыбнулся.
– Нет, прямо вот сейчас? – Натансон стал рассматривать заваленный вещами салон машины.
– А если эти трое сами дадут свежий повод пересмотреть дело? – спросил Клиншов. – Я заставлю. Должны дать.
Натансон подумал. Сказал:
– Послушай, а где ты был двадцать лет?
Клиншов покачал головой, как бы принимая упрёк. Ответил спокойно:
– Я рос. Когда это случилось, мне было пятнадцать.
– Только не морочь мне голову, что ты двадцать лет носил за пазухой эту мысль и не мог спать ночами. Я знаю тебя давно, – он обошёл машину и упёрся руками в передок, будто не пуская.
– Что ты знаешь?
– Может, ты уже переделал в жизни все дела, и осталось только одно это?
– Что же ты знаешь?
– Или ты вдруг решил доводить каждое дело до конца? Ты можешь снять с работы официантку, плюнувшую тебе в суп! А твой министр, который нахамил тебе на прошлой неделе, – он всё ещё на своём месте? Послушай, давай снимем его с работы!
– Ну так что же ты обо мне такое знаешь?
– Что ты – фрагмент, а не трактат. Вчера придумал, сегодня затеял, завтра бросил. Вполне хватает для твоих телевизионных упражнений: на полуфразе начал, на полуслове кончил, закрыл музычкой, пошли титры. А тут… Есть такие дела, которые нельзя бросить, потому что они срабатывают как цепная реакция. Сами.
Клиншов запустил мотор и двинул машину вперёд.
– Ты мне ответишь, почему вдруг? – кричал Натансон, отступая. – Почему ты не сделал этого, когда был жив отец?! Или позднее, когда ещё жила мать? Двадцать лет занимался собой, чтобы, наконец…
Машина выдавила его на тротуар, он отпрыгнул, отряхнул руки и бросил вдогонку:
– Авантюрист!
И ещё громче:
– Я буду ждать звонка.
Ещё нужно было заехать к бывшей жене, которая жила возле него шесть лет и три года возле воспоминаний о совместной жизни. Неважно, зачем заехать. Важно лишь, что сейчас, перед отъездом, он, как всегда, без предупреждения завернул к ней, и она, как всегда, без удивления впустила его, только пожав плечами. Как всегда…
Никаких вопросов не было произнесено её мягким ироничным голосом. Почему не звонил? Где был полмесяца? Зачем приехал? Зачем вообще приезжает сюда, в чужой дом? Что на работе? Над чем работает? Работает ли вообще? Женился? С кем живёт? Вообще, сколько могут продолжаться эти отношения? Зачем она ему? Что тянет его сюда? Тянет ли вообще? Задаёт ли он сам себе эти вопросы, наконец?!!
Если дверь открылась, можно войти. Можно сесть, если свободен диван. Если подан кофе, можно пить. Можно говорить. Можно обнять за плечи женщину, если она сидит рядом. Если она не выказывает неприязни, можно считать её одежду своей, и всё в доме – своим, и её руки и губы – своими. И саму её своей. Можно уйти, если она произнесёт неосторожное слово или в её глазах мелькнёт сомнение. Или если просто истекло время.
Время, действительно, торопило, и Клиншов давно уже видел себя со стороны. Вот он спускается вниз, во двор. Вот находит её окно. Вот поднимает ладонь, не то прощаясь, не то заслоняясь от солнца…
Потом, описав малый круг, машина рванётся вон из двора, примет бак АИ-93 и, набирая скорость, поршнем войдёт в смазанный цилиндр тоннеля, толкая перед собой упругий столб воздуха. Через десять минут, раздражённая мошкарой светофоров, машина вырвется за перечёркнутую надпись «Рига» и затрепещет от предвкушения свободы. Теперь – на Чернов.